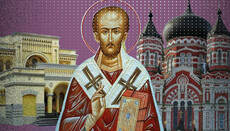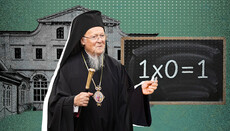Миссия Церкви в эпоху перемен: размышления Блаженнейшего Владимира

Митрополит предостерегал как от национализма, который видит в автокефалии символ государственности, так и от имперского мышления, которое отождествляет церковное единство с подчинением.
На XVII Международной научно-практической конференции «Духовное и светское образование: история взаимоотношений, современность, перспективы», проходившей в КДА, митрополит Хмельницкий Виктор представил доклад о позиции Блаженнейшего митрополита Владимира (Сабодана) относительно канонического статуса УПЦ.
В свете постоянных манипуляций со стороны различных религиозных деятелей относительно взглядов почившего Предстоятеля УПЦ на вопросы автокефалии и отношений с РПЦ, предлагаем ознакомиться с текстом доклада митрополита Виктора с небольшими сокращениями.
23 ноября этого года исполняется 90 лет со дня рождения Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира (Сабодана). Его жизнь и служение стали определяющими для современной Украинской Православной Церкви.
22-летнее предстоятельское служение Блаженнейшего Митрополита Владимира во главе Украинской Православной Церкви требует основательного и внимательного изучения и осмысления. Некоторые аспекты его деятельности привлекали внимание исследователей еще при его жизни и продолжают вызывать интерес сегодня.
Сейчас мы хотели бы предложить вашему вниманию стратегическое видение развития Церкви, высказанное Блаженнейшим Первоиерархом. Это мысли относительно ключевых вопросов церковной и общественной жизни, которые были актуальными при его жизни и сохраняют свою значимость сегодня.
Начнем с вопроса, который сегодня волнует всех больше всего, – статуса Украинской Православной Церкви
В годы предстоятельства Блаженнейшего Митрополита Владимира он рассматривался с двух противоположных позиций по отношению к Московскому Патриархату: либо как отказ от самостоятельного юрисдикционного существования, либо как плод политической конъюнктуры, обусловленный провозглашением независимости Украины. В связи с этим Предстоятелю приходилось отстаивать статус УПЦ как самостоятельной и независимой в управлении, учитывая, что он был окончательно закреплен Поместным Собором РПЦ лишь в 2009 г., поскольку с 1990 г. этот высший орган РПЦ не созывался.
Итак, оценивая Определение Архиерейского Собора и Грамоту 1990 г., Митрополит указывал, что они стали точкой равновесия между двумя полюсами – сохранением единства со вселенским Православием через Московский Патриархат и признанием внутренней субъектности Православной Церкви в Украине. Причем обретенный статус стал «плодом тщательного и всестороннего обсуждения инициатив, высказанных украинским епископатом». Он подчеркивал, что речь идет не о временной договоренности, а об устойчивой форме церковного бытия, которая оказалась достаточно эффективной, поскольку смогла объединить людей разных регионов и политических ориентаций.
Отстаивая обретенный статус Украинской Православной Церкви, ее Предстоятель последовательно выступал за то, что он должен быть осмыслен не как компромиссная политическая форма, а как естественное возрождение исторических традиций Киевской митрополии, как возвращение к древней норме церковной жизни на украинских землях. Историческую линию преемственности между древним устроением Киевской Церкви и современным статусом УПЦ он выстраивал от Крещения Руси до синодального периода, а далее через восстановление церковной автономии в 1918 г., хотя она и не смогла закрепиться в советскую эпоху. Именно поэтому он отвергал интерпретации документов 1990 г. как «плода политической конъюнктуры», предлагая видеть в них закономерное возрождение традиций канонического бытия Церкви на украинской земле.
Как богослов и Предстоятель, Митрополит Владимир решительно выступал против перенесения проблемы церковного статуса в политическую плоскость. Он предостерегал как от национализма, который видит в автокефалии символ государственности, так и от имперского мышления, которое отождествляет церковное единство с подчинением.
В частности, на Архиерейском Соборе РПЦ 24–29 июня 2008 г. Митрополит указывал: «С одной стороны, некоторые утверждают, что автокефалия является разрушительной для церковного единства. Однако такая мысль, доведенная до своего логического завершения, означала бы, что между Поместными Православными Церквами, которые имеют автокефальный статус, не существует церковного единства, а это коренным образом противоречит православному учению о Церкви. С другой стороны, существует мнение, что автокефалия – это единственный и безальтернативный способ решения украинской церковной проблемы».
Обращаясь к делегатам от УПЦ на Поместный Собор РПЦ в 2009 г., Предстоятель вновь обратился к этой теме: «Вполне очевидно, что и сегодня в украинском церковном народе нет единодушия относительно оптимального для нашей Церкви канонического статуса. Поэтому любые окончательные решения по этому вопросу, считаю, будут сейчас преждевременными, однако это не означает, что мы должны отказаться от открытого общецерковного обсуждения указанной проблемы».
Итак,
задачей Митрополита Владимира было сохранить и утвердить статус УПЦ, полученный в 1990 г., однако дальнейшее его совершенствование он считал принципиально возможным и открытым для дальнейшего решения.
В речи в Христианской богословской академии в Варшаве в 2008 г. Митрополит Владимир перечислил три условия, в которых должно происходить обсуждение и совершенствование канонического статуса УПЦ: во-первых, исключительно в богословской плоскости, избегая какой-либо политизации; во-вторых, в контексте преодоления раскола в Украинском Православии; в-третьих, при согласовании с кириархальной Церковью и Православной Полнотой.
В высказанных мыслях ярко прослеживается пастырская позиция Митрополита, которая определяла его деятельность как Предстоятеля: прежде всего – исцеление церковного сознания, потом – институциональные решения. В своем «Духовном завещании» он так подытожил свои действия в этом направлении: «Принципиально воздерживаясь от того, чтобы занять ту или иную идеологически обусловленную позицию, мы старались все это время придерживаться сугубо церковных приоритетов: пребывание в евхаристическом единстве со Вселенским Православием и сохранение единства и соборности во внутренней жизни Церкви».
Вопрос церковного статуса не может быть полностью отделен от проблемы раскола в украинском Православии. В размышлениях Митрополита Владимира этот вопрос занимает центральное место. Он убедительно указывал на то, что раскол – это не просто организационное противоречие, а глубокая духовная драма, наносящая вред не только образу Церкви в мире, но и самому внутреннему единству веры: «Раскол, который безусловно является результатом злоупотребления свободой, в то же время сдерживает полноту проявления этой самой свободы».
Митрополит Владимир выступал против двух крайностей: политизации церковного единства и сведения его к формальным процедурам. Он настаивал, что путь к преодолению раскола лежит через покаяние, диалог и богословское согласие. Церковь должна избегать как правового максимализма, который отвергает любое общение с раскольниками, так и релятивизма, который уравнивает каноническую и неканоническую структуры. В обоих случаях церковная позиция оказывается слабой и уязвимой.
Одним из центральных факторов достижения единства Митрополит считал возвращение к евхаристическому осознанию Церкви. По его мнению, единство – это не внешняя организационная форма, а живое общение в Таинствах. «Христос в Евхаристии дает нам силу преодолевать все разделения», – говорил он.
Митрополит Владимир считал необходимым для достижения единства церковного народа устранить идеологическое противостояние, которое насаждалось политиками.
Он призывал оставить в прошлом как бездумное подчинение «империи», так и агрессивный национализм. Вместо этого он предлагал путь покаяния и прощения, через которые можно разорвать замкнутый круг обид и претензий.
Однако Владыка был реалистом. Он видел, что расколы в Церкви усиливаются благодаря участию государственной власти и политических сил. Преодоление этого влияния он считал важнейшим условием церковного примирения. Для него единство Церкви – это вопрос веры, а не политического расчета, и его нельзя «насадить» сверху, извне, через решения власти или формальные соглашения.
Роль Церкви в обществе
Важным направлением размышлений Митрополита Владимира было определение места и роли Церкви в общественной и политической жизни. В своих рассуждениях он последовательно придерживался позиции, которая может быть названа «взаимной свободой Церкви и государства». Эта позиция базируется на понимании специфики каждой из институций и их служений. По его словам, Церковь и государство представляют различные измерения человеческого существования: духовное и гражданское. Каждое имеет свою сферу ответственности и свою логику действия. Церковь посвящает себя спасению души, государство обеспечивает порядок и справедливость в земной жизни. Смешение этих сфер, по мнению Митрополита, всегда приводит к отрицательным последствиям для обеих сторон.
Предстоятель решительно выступал против как цезарепапизма, так и папоцезаризма – двух крайностей, при которых либо государство подчиняет Церковь, либо Церковь стремится занять место власти. Он подчеркивал, что Церковь не должна становиться «агентом власти» и не может претендовать на светские прерогативы. Ее цель – быть «совестью народа», духовным ориентиром, а не политической силой.
В то же время Митрополит выступал против секуляристской идеологии, согласно которой религия должна быть исключительно частным делом, а Церковь должна молчать по вопросам общественной значимости. Такой подход, по его мнению, лишает общество морального измерения и превращает публичную сферу в пространство голого прагматизма.
Митрополит Владимир настаивал на том, что Церковь не может устраниться от социальной и культурной жизни. Ее задача – не администрировать и не манипулировать, а воспитывать совесть, свидетельствовать о высших ценностях, служить источником моральной ориентации. Проповедь Евангелия, христианские ценности, диакония – все это законные формы присутствия Церкви в обществе, и попытки ограничить это присутствие противоречат самой сути ее призвания.
Митрополит Владимир остро указывал на конкретные правовые пробелы, которые ставили Церковь в зависимое или дискриминационное положение. Во-первых, отсутствие статуса юридического лица у самой Церкви как института. Это лишало ее возможности полноценно владеть имуществом и участвовать в правовых отношениях. Во-вторых, непроведение реституции церковной собственности, которая была у нее отобрана советской властью. В-третьих, недооценка богословского образования и неравенство в правовом поле церковных учебных заведений и их студентов. В-четвертых, неурегулированность служения в военных и пенитенциарных структурах.
Для Митрополита Церковь – не только хранительница веры, но и моральная опора общества. Он предлагал расширять сотрудничество Церкви и государства в сферах образования, милосердия, благотворительности, социальной политики, видя в этом путь к консолидации общества и духовного возрождения нации.
Начиная свое служение в период напряженности между УПЦ и властью, Митрополит Владимир прошел путь от оборонительной позиции к взвешенному диалогу. Начав в условиях жесткого неприятия Церкви со стороны государства, он впоследствии признал, что «вмешательство государственных органов в церковную жизнь ослабело». Интересно его наблюдение, что поликонфессиональность Украины действует как своеобразный «предохранитель» от огосударствления Церкви, ведь религиозное многообразие заставляет и Церковь, и государство сохранять взаимную дистанцию.
В целом, позиция Митрополита Владимира относительно отношений Церкви и государства является взвешенной, глубоко богословской и в то же время прагматической. Она сочетает осознание духовной автономии Церкви с готовностью к социальному служению и партнерству ради общего блага. Его концепция – это «свобода в сотрудничестве», где Церковь остается совестью народа, а государство – гарантом этой свободы.
В связи с церковно-государственными отношениями следует упомянуть еще один важный момент.
Митрополит Владимир последовательно выступал против явления, которое он называл «политическим православием» – попыток использовать Церковь как инструмент политического влияния.
Он указывал, что оно очень опасно, поскольку отводит людей от веры, разжигает политические страсти, провоцирует непокорность иерархии и вносит раздор в Церковь. Предстоятель напоминал, что Церковь должна стоять вне политики, оставаясь пространством единства для всех: «Если Церковь в своей жизни не способна предстать в образе Царства Божия, то это не есть Церковь».
Еще одной глубокой темой в размышлениях Митрополита является проблема секуляризации. В его видении это не просто социально-культурное явление, а вызов бытийного масштаба, который определяет духовное лицо современного мира и Украины в частности. Митрополит с болью констатировал, что даже несмотря на численный рост УПЦ, украинское общество остается далеким от истинной воцерковленности. Большинство наших соотечественников так и остаются номинальными христианами.
В отличие от поверхностного понимания секулярности как «отделения Церкви от государства», Митрополит Владимир рассматривал секуляризм как разрыв связи человека с Творцом. В этом он видел главную антропологическую угрозу эпохи – попытку заменить живую веру культурным ритуалом или психологическим опытом. Современное сознание, по его словам, все больше тяготеет к «эфемерной вере, лишенной признаков церковности» – когда человек «верит, но не принадлежит» или же «принадлежит, но не верит».
Особенно остро Митрополит Владимир анализировал феномен потребительства, называя его «новым язычеством». Человек, потерявший духовный стержень, начинает искать смысл в вещах, заменяя богообщение фетишизацией товара. Он видел в этом не только экономическую, но прежде всего антропологическую катастрофу: потребительская идеология, которая сводит человеческую жизнь к комфорту и удовольствию, разрушает образ Божий в человеке. Поэтому задача Церкви – не осуждать, а исцелять: «вернуть человеку духовное зрение» и показать иллюзорность целей, которые диктует грех.
Как противовес Митрополит Владимир выдвигал программу внутренней миссии – создание богословских кафедр при университетах, активное сотрудничество Церкви со СМИ, развитие пастырского служения, ориентированного на современный язык и потребности человека. Вместе с тем он подчеркивал, что никакое социальное или миссионерское свидетельство не будет успешным, если церковная жизнь не будет соответствовать своему богословскому призванию, а приходы будут оставаться закрытыми в пределах этнических или идеологических барьеров.
Говоря о коммуникации с украинским обществом, Предстоятель указывал на особую роль Украинской Православной Церкви. Она вытекает из того, что в Украине существуют две цивилизационные орбиты: Восточная и Западная. Эти два полюса несут в себе угрозу разделения и фрагментации, особенно когда к этому прилагаются целенаправленные усилия политиков. Однако, несмотря на различия, эти два региона объединяет христианство, которое происходит от Крещения святого князя Владимира. И Церковь выступает центром, вокруг которого могут консолидироваться оба сообщества. УПЦ – это единственная церковная структура, которая присутствует в обоих этих пространствах, благодаря чему она способна обеспечить в своих недрах этот синтез.
Отношение к евроинтеграции
В последние годы служения Митрополита Владимира на поверхность поднялся вопрос евроинтеграции Украины. В этом отношении Первосвятитель выделял как положительные, так и отрицательные аспекты. Он указывал, что вступление в Евросоюз предполагает сложное распределение власти между национальными и наднациональными институциями, что уменьшает риск концентрации власти в руках одного лица и десакрализирует политическую власть. По его оценке, европейская модель способствует большей стабильности, прозрачности и эффективности управления, а также уменьшает политические риски, присущие исторически постсоветским обществам.
Вместе с тем евроинтеграция несет и духовные риски. Основная опасность – это соблазн релятивизма. Европейские общества, по его словам, больше ценят свободу выбора, чем саму истину. Формальные ценности и компромиссы становятся преобладающими, а онтологические идеалы веры отодвигаются на второй план. В этой ситуации задача восточноевропейских народов, в частности украинцев, – напоминать западной культуре о более глубоких, принципиальных ценностях, которые выходят за пределы свободы выбора, в частности через возрождение христианских традиций и просветительскую миссию.
В связи с тем, что за пределами Украины оказывалось все больше ее граждан, одним из важных направлений служения Украинской Православной Церкви Митрополит Владимир считал попечение о диаспоре. Этот вопрос встал не только как пастырский, но и как экклезиологическая и культурная задача, касающаяся сохранения духовной идентичности украинцев вне пределов Отечества. Для большинства из них вера оставалась главной связью с родной землей.
Подводя итоги сделанному обзору, можем утверждать, что жизнь и служение Митрополита Владимира (Сабодана) являются примером сочетания богословской глубины, пастырской мудрости и государственного видения. Его наследие определило современное лицо Украинской Православной Церкви. И сегодня его размышления во многом не утратили своей актуальности. Для верующих, которые выросли под его первосвятительским омофором, они могут служить путеводителем в поисках гармонии между традицией и современностью, духовностью и общественной ответственностью.