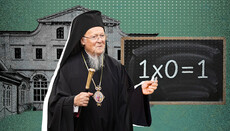Об автокефалии
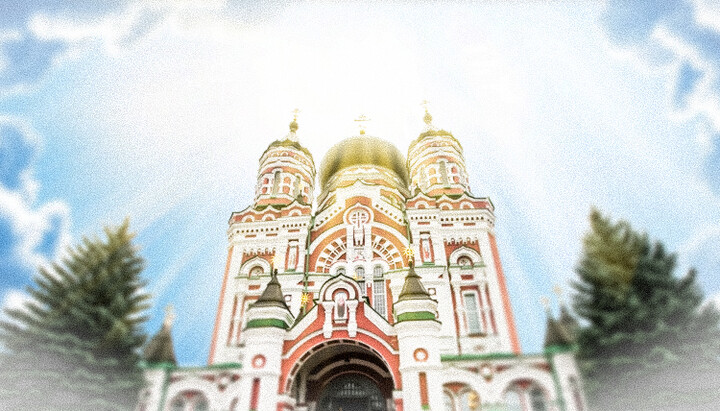
Церковные разделения возникают не тогда, когда Церковь обретает статус автокефалии, а когда Церковь-Матерь отказывается предоставлять независимость какой-либо своей части.
Ректор КДАиС архиепископ Белогородский Сильвестр в своей статье о статусе поместных Церквей подчеркивает, что получение автокефалии не является разделением Вселенской Церкви. По его словам, автокефалия – это не разделение, а умножение.
Архиерей разместил текст на своей странице Фейсбук, а также прислал ее в редакцию СПЖ. Публикуем текст митрополита Сильвестра без редакций и изменений.
После подкаста на тему «Автокефалия – возможность или безысходность?» я получил немало вопросов относительно мыслей, которые высказал во время записи этого подкаста. Для меня это очень приятно. Сам факт, что звучат вопросы, означает, что существует интерес к тем темам, которые мы обсуждали в Виннице с отцом Романом Макаром.
В целом, неоднократно говорил, что открытая и искренняя дискуссия является и должна быть неотъемлемым атрибутом церковной жизни. Именно поэтому согласился на открытое обсуждение вопросов будущего статуса Украинской Православной Церкви в подкасте.
Сразу же хочу отметить, что немало реакций на этот подкаст (преимущественно негативных) были опубликованы на анонимных интернет-ресурсах и Телеграм-каналах. Конечно, когда человек высказывает свои мысли анонимно, это уже не является открытой и ответственной дискуссией. Анонимные авторы, которые позиционируют себя как защитники канонического устройства Церкви, при этом очень легко допускают не только манипуляции, но и прямые оскорбления. Тот, кто действительно желает добра своей Церкви, не будет прятаться за выдуманными псевдонимами и анонимными ресурсами.
Наверное, наибольшее количество вопросов вызвал мой тезис о том, что автокефалия – это норма существования поместной Церкви и что для каждой поместной Церкви является естественным стремление к обретению автокефального статуса. Меня спрашивали: а где об этом сказано в Святом Писании? А где об этом говорят святые отцы? А где об этом сказано в канонах вселенских соборов? Поэтому я хочу раскрыть этот свой тезис более детально.
Конечно, ни в Святом Писании, ни в постановлениях вселенских соборов мы не встречаем словосочетания «автокефальная Церковь». Однако это отнюдь не означает, что в древней Церкви не существовало представления о независимых поместных Церквах.
Фактически с самого начала своего бытия Церковь Христова существовала как совокупность местных общин верных, то есть местных Церквей.
В частности, в Книге Деяний и Посланиях апостола Павла неоднократно упоминаются церкви в Иерусалиме (Деян. 8: 1), Антиохии (Деян. 13: 1), Галатии (Гал. 1: 2), Македонии (2 Кор. 8 1) и т.д. А Откровение Иоанна Богослова содержит знаменитое послание к семи местным Церквам в Асии (Откр. 1-3). Конечно, тогдашние местные Церкви не были похожи на современные поместные Церкви. В новозаветных свидетельствах местные Церкви – это относительно небольшие общины христиан в городах. Они были значительно компактнее современных поместных Церквей. Однако каждая такая местная Церковь была проявлением церковной полноты в конкретном месте.
В посланиях апостола Павла можно видеть четкое осознание того, что Церковь Христова есть единство в многообразии. Для того, чтобы выразить эту важную богословскую интуицию, апостол Павел использует образ тела. Он говорит, что Церковь есть Тело Христово. Главой этого тела является Сам Христос, а все мы являемся его членами, или частями (Рим. 12: 4-5; 1 Кор. 12: 27; Еф. 1: 22-23; Кол. 1: 18). Этот образ указывает одновременно и на единство Церкви, и на ее внутреннее многообразие. Тело состоит из частей, но все эти части пребывают в органическом единстве и не могут существовать одна без другой. Так и в Церкви. Все местные Церкви исповедуют единую веру, совершают одну Евхаристию, но при этом являются самостоятельными в решении своих внутренних вопросов.
И вот что интересно, противники автокефалии обычно приводят цитаты из апостола Павла, где он говорит о единстве Тела Христова, но странным образом обходят его мысли о многообразии. Но ведь в Церкви нельзя отвергать ни первого, ни второго: единство является залогом многообразия, а многообразие лишь скрепляет единство в вере. Св. Киприан Карфагенский († 258) писал: «Поскольку держится связь согласия и сохраняется нераздельным таинство Кафолической Церкви, то каждый епископ сам действует по собственному усмотрению, имея дать Господу отчет в своих действиях» (Письмо к Антониану о Корнелии и Новациане). Следовательно, каждый епископ должен самостоятельно управлять своей епархией, но при этом между епископами Вселенской Церкви должно существовать постоянное общение, которое проявляется, например, в регулярном созыве церковных соборов.
Как видим,
самостоятельное существование местных Церквей – это определенная данность, зафиксированная уже в Новом Завете (хотя там и нет термина «автокефалия»).
Так же и в постановлениях вселенских соборов, хотя мы и не встречаем термина «автокефалия», но мы четко видим представление о том, что поместные Церкви являются административно независимыми друг от друга единицами. В канонах Первого Вселенского Собора мы видим закрепление системы митрополий, которая оформилась не позднее III в. Если в апостольскую эпоху речь шла о независимых местных Церквах, то на рубеже III-IV вв. существуют уже независимые митрополии. Позднее, когда словосочетание «автокефальная Церковь» стало общепринятым, византийские канонисты объясняли, что все древние митрополии фактически были автокефальными. Например, известный канонист патриарх Феодор Вальсамон (XII в.) писал: «В древности митрополиты всех епархий были автокефальными и принимали хиротонии от своих собственных Синодов».
Сколько же автокефальных Церквей существовало в IV в.? Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос. Например, профессор Сергий Троицкий считал, что по крайней мере в пределах каждого диоцеза существовала автокефальная митрополия. А в конце IV в. этих диоцезов было 15.
Но в V-VI вв. на смену системе митрополий пришла система патриархатов. В результате автокефальные митрополии постепенно были подчинены пяти патриаршим кафедрам. Однако и за пределами системы патриархатов могли существовать полностью независимые Церкви. В частности, именно такой была Церковь на Кипре, а уже после эпохи Вселенских Соборов за пределами пяти патриархатов оформились автокефальные Церкви в Болгарии, Грузии, Сербии.
Все это и заставляет меня сделать очевидный вывод: автокефалия (то есть административная независимость) является для поместной Церкви естественным состоянием.
Мы как-то не задумываемся над тем, что Святых Игнатия Богоносца, Поликарпа Смирнского, Иринея Лионского, Киприана Карфагенского, Василия Великого, Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Амвросия Медиоланского и многих других святителей в современных категориях следует признать предстоятелями автокефальных поместных Церквей. Хотя представления о независимых местных Церквах во времена жизни каждого из этих святых могли быть разными, но сам факт существования таких Церквей был для всех них чем-то самоочевидным.
Меня и удивляет, и огорчает тот факт, что для многих членов нашей Церкви (и мирян, и священников, и даже епископов) термин «автокефалия» является синонимом разделения Церкви, и даже более того – раскола. Хотел бы напомнить, что в древней Церкви под расколом понималось все же иное. Метко это выразил блаженный Августин: «Не бывает раскола, если раньше не выдумать ересь» (блж. Августин, письмо 101).
То есть расколы древности – это не какой-то аналог «автокефальных расколов», а именно еретическая экклезиология, адепты которой стремились выйти из Кафолической Церкви, а не быть признанными ею (см. учение Монтана, Новата, Доната и т.д.).
Обычно такие люди говорят об автокефалии как об отделении от церковного единства, обусловленном нецерковными факторами. Именно это я имел в виду, когда сказал во время подкаста, что неприятие идеи автокефалии является результатом искаженной экклезиологии.
Подчеркну еще раз. Автокефальный статус той или иной поместной Церкви является естественным.
История Церкви свидетельствует, что церковные разделения возникают не тогда, когда Церковь обретает статус автокефалии, а наоборот, тогда, когда Церковь-Матерь под различными искусственно выдуманными поводами отказывается предоставлять независимость какой-либо своей части.
К сожалению, все великие Церкви в истории пытались удержать в своем составе те церковные области, которые объективно были уже готовы к независимому существованию. Даже сказал бы, что это типичная болезнь патриархатов. Вместо того, чтобы умножать семью поместных Церквей, сохраняя единство, большие патриархаты пытаются как можно дольше держать своих «взрослых дочерей», и именно это приводит к печальным конфликтам и тяжелым церковным разделениям.
Создание новой автокефальной Церкви не является разделением Вселенской Церкви. Автокефалия – это не разделение, а умножение. Так же как умножались Церкви во времена апостольской проповеди. Это правильный процесс, который выявляет высокий уровень христианизации народа. Поэтому стремление к автокефалии не является каким-то злом или грехом против Церкви.
Обращу внимание еще на один вопрос, который постоянно звучит в дискуссиях об автокефалии. Обычно противники автокефального устройства Украинской Церкви говорят, что национальное самосознание играет негативную роль в процессе создания автокефальных Церквей. Однако такое отвержение национальной составляющей в церковной жизни вступает в противоречие с церковным преданием.
Процитирую по этому поводу статью митрополита Бориспольского Антония, напечатанную в журнале «Труды КДА» в 2008 г. В частности, владыка Антоний, размышляя о роли национально-культурной составляющей в процессе создания автокефальных Церквей, вполне справедливо писал: «В этой связи стоит вспомнить свв. Кирилла и Мефодия (IX в.), эллинских проповедников среди славян, которые заложили основание "славянского христианства", поощряли использование славянского языка и приложили усилия к созданию алфавита. Самой природе Православия свойственно развивать Церковь на основании существующих местных культур. С этой точки зрения развитие автокефалии на базе "культурного фактора" не представляет для Православия богословских или канонических проблем».
Далее владыка Антоний добавляет: «Автокефальная Церковь сохраняет в себе национальную особенность, оставаясь при этом в общении с другими Автокефальными Церквами. Т. е. она сохраняет разнообразие и единство» (Антоний (Паканич), еп. Поместные Церкви и церковное единство. Несколько слов о характере церковной автокефалии // Труды КДА. № 8. К., 2008. С. 29, 31. Цитировано на языке оригинала).
Действительно, странно говорить о том, что национально-культурная составляющая нашей жизни не должна влиять на церковные дела, если мы при этом почитаем свв. Кирилла и Мефодия, которые как раз отстаивали право славян и на собственную культуру, и на собственную Церковь. В этом отношении дискуссии о том, какую роль в Церкви должна играть национальная составляющая, являются прямым продолжением полемики, которую святые братья вели с латинскими клириками еще в IX в.
Крайности национального фактора в жизни Церкви были справедливо осуждены как филетизм (или этнофилетизм). Однако это вовсе не означает, что Церковь должна игнорировать национальное самосознание своей паствы. Именно в развитии различных национальных культур должно раскрываться единство поместных Церквей в многообразии.