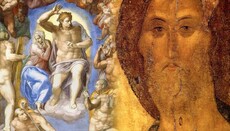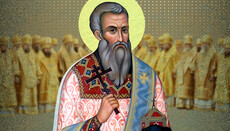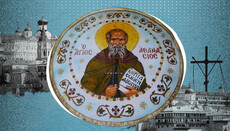«Пикасо́»: два способа стать богом

Отрывок из книги Андрея Власова «Пикасо́. Часть первая: Раб». Эпизод 23.
Предыдущий эпизод произведения можно прочитать здесь
Время действия: 1992 год
Место действия: Киев
Действующие лица: отец Лавр, семинаристы
– Хочу обратить ваше внимание, братия, что мы читаем по-церковнославянски, этот перевод гораздо более правильный, чем русский.
– А почему? – спросил кто-то.
Отец Лавр погладил бородку и сказал:
– Это отдельная и очень интересная тема, на которой мы сейчас не будем останавливаться. Скажу лишь, что церковнославянский перевод сделан с греческого текста, Септуагинты, то есть с перевода книг Священного Писания на греческий, который был сделан в третьем столетии до Рождества Христова. А русский перевод сделан с Масоретского текста, то есть с еврейского. Но дело в том, что сам Масоретский текст – довольно поздний. Он сформировался уже во втором веке после Рождества Христова и даже позднее, когда иудеи, не принявшие Христа, уже вели полемику с христианством и потому не устояли перед искушением подправить, а кое-где и довольно сильно исказить священный текст в свою пользу. Да… Но вернемся к… – он опять чуть не сказал «к грехопадению». – Так вот. В чем состояла заповедь? Не вкушай! От одного-единственного дерева в раю! Исполняя эту заповедь, человек мог нравственно совершенствоваться, уподобляться Богу. Мог стать способным к единению с Ним. Повторяю, человек обладал свободой воли… И вот, если бы он свободно, без принуждения исполнял заповедь Божию, то взошел бы на более высокую ступень своего развития. Сколько таких ступеней было бы и в чем бы они состояли, мы не знаем, но в конечном итоге, под водительством Божиим, в согласии с волей Божией, человек достиг бы теозиса, обо́жения, стал бы богом по благодати. Это именно то, чего хотел Бог.
Многие отцы утверждают, что заповедь «не вкушай» дана была человеку на время. В каноне на праздник Крестовоздвижения есть такие слова, – отец Лавр взял со стола свою тетрадочку: «Разруши́ повеление Божие преслушание, и древо принесе смерть челове́ком, еже неблаговременно причастно бывшее…». В этих словах, братия, указание на то, что Адам вкусил от древа познания неблаговременно, а значит, мог вкусить и благовременно, то есть когда Бог Сам повелел бы ему. Заповедь «не вкушай» – это заповедь воздержания, поста, который, как известно, заканчивается Пасхой или иным праздником.
Что же предложил человеку змий? Он предложил ему то же самое: стать богом. Стать богом! Слышите! – отец Лавр поднял вверх указательный палец и повысил голос. – Стать богом без Бога! Не напрягаясь, не трудясь, не ходя в послушании у Бога и, в конечном счете, не любя Бога. А очень легко и просто. Просто взяв и вкусив от запретного плода, – он немного помолчал, прохаживаясь между партами. – Как я видел на одном рекламном плакате в городе: «Здесь и сейчас». Да…
– Так получается, что человек все-таки стал богом? – спросил кто-то.
– Нет, – со вздохом ответил отец Лавр. – Дьявол – лжец и отец лжи. Он просто соврал. Если человек слушает Бога, он становится богоподобным, а если он слушает лукавого?
– А почему же Адам ему поверил? Это что, не ясно, что без Бога стать богом нельзя? Он что, совсем головой не думал?
– Ты, братец, поостерегись так дерзко заявлять, – сказал отец Лавр. – Знаешь, очень многие ругают Адама и Еву. Говорят, что вот если бы они не вкусили, так хорошо бы нам всем жилось.
– Ну да! А что, разве не так?
– Хм, – отец Лавр пощипал бородку. – Есть такая заповедь: «Чти отца твоего и матерь твою, якоже заповеда тебе Господь Бог твой, да благо ти будет и да долголетен будеши на земли». Давайте, братия, не будем нарушать сию заповедь и не будем злословить прародителей наших. Так вот… Почему же человек нарушил эту заповедь? Заповедь эта была очень легкой. Вот Ефрем Сирин пишет, – он опять взял со стола свою тетрадку и стал читать: «Заповедь была легка, потому что отдал Бог Адаму весь рай и воспретил вкушать плоды от одного только древа. Поелику же вместо одного древа Бог дал ему многия, то если совершено́ преступление, произошло оно не по нужде, а по небрежению». А вот что пишет Иоанн Златоуст: «Как бы так говорит Бог Адаму: "Я не требую от тебя чего-либо трудного и тяжкого: позволяю пользоваться всеми древами и заповедаю воздерживаться только от одного этого"».
Читая эти выписки, отец Лавр подошел к задним рядам и посмотрел на семинариста, отковырявшего несогласие этих святых отцов по поводу рая. Тот поднял на учителя глаза.
– Видишь, братец, консенсус патрум, – отец Лавр еле заметно улыбнулся и пошел обратно к учительскому столу. – Опять-таки, почему же человек нарушил эту простую и легкую заповедь?
– Из любопытства, может? – предположил кто-то.
– Нет, здесь все гораздо глубже. В само́м человеке уже было нечто, что с готовностью отозвалось на искушение. Вот что пишет преподобный Ефрем: «Искусительное слово не ввело бы в грех искушаемых, если бы руководством искусителю не служило собственное их желание». Вот, братия, запомните: человек согрешает только тогда, когда искуситель находит что-то греховное в нем самом, в его душе, в его каких-то сокровенных помышлениях, может. Христос о Себе говорит: «Идет мира сего князь, и во Мне не имать ничесоже». То есть искуситель не нашел в Нем ничего, что откликнулось бы на его искушения. К сожалению, в нас дело обстоит не так. Из нашего сердца исходят «помышления злая, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы» и так далее. Опять-таки, все это, к сожалению, есть в нас, и одни грехи в нас процветают, если находят подходящую обстановку для совершения делом, а другие пребывают в скрытой форме. Как семена, знаете, могут храниться столетиями, но стоит им дать влагу и почву – начинают прорастать.
Отсюда, братия, важнейший нравственный урок, – отец Лавр снова поднял кверху указательный палец, – никогда не осуждать ближнего ни за какие грехи. Потому что то, что твой брат совершил делом, в тебе самом находится в виде семени, которое просто еще не проросло. А ведь Бог зрит на сердце человека и судит помышления сердечные, – он сокрушенно покачал головой. – И стоит Богу попустить это – и ты впадешь в тот же грех, а то и хуже. Я вот раньше сильно удивлялся, когда читал молитвы, вечерние или ко Причастию, – он остановился посреди класса и, прикрыв глаза, стал читать по памяти. – «Кое убо не содеях зло, кий грех не сотворих, кое зло не вообразих в душе моей… Блуд, прелюбодейство, хулу, ненависть, зависть, лихоимство, хищение», ну и так далее. Потом читаешь житие святого, который написал молитву, – нет, ничего он такого не делал. Вел праведную жизнь. Сначала я думал, что это так, для красного словца, а потом понял: нет, это не просто красивый оборот речи. Святой чувствовал в себе этот грех, хоть он еще и не вылез наружу, и каялся в нем как в уже совершенном. А во второй молитве на сон грядущим об этом прямо сказано: «Желанию сатанину не остави мене, яко семя тли во мне есть». Опять-таки, Бог зрит на сердце человека.
Отец Лавр прошелся туда-сюда по классу.
– Так вот, братия, то, что нашел в первом, еще безгрешном человеке дьявол, была гордость. Дьявольская гордость, погубившая самого дьявола, – он остановился и прикрыл глаза. – «Ты же рекл еси во уме твоем: на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах высоких, яже к северу: взыду выше облак, буду подобен Вышнему». Вот так же и человек возгордился и захотел сам стать богом. Сказал Богу: я сам, без Тебя обойдусь! И жена… вот заметьте, братия, когда сорвала плод, ведь не понесла его Адаму, чтобы он первый съел, а сначала съела сама. И вот Ефрем Сирин пишет: «Вкусила прежде мужа, надеясь, что, уже облеченная божеством, возвратится к тому, от кого произошла человеком. Чтобы стать главою того, кто был ея главою, соделаться повелительницей того, от кого должна была принимать повеления, быть по божеству старее того, пред кем моложе была по человечеству».
Вот, братия, нарушением заповеди обнаружилось, что в человеке вместо любви к Богу и ближнему живет гордость. А что гордость есть изначальная причина всякого греха, об этом говорит и Священное Писание, и великое множество святых отцов, – он опять раскрыл свою тетрадку. –Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин в обозрении духовной брани пишет: «Осьмая и последняя брань предлежит нам с духом гордости. Страсть эта, хотя в порядке изображения борения со страстьми́ полагается последнею, но по началу и времени есть первая. Ангел, котораго за чрезмерность его блеска и красоты назвали Люцифером, низвергнут с неба не за другое что, как за эту страсть». И вот, далее: «Вот причина перваго падения и начало главной страсти, – которая потом чрез того, кто первый был ею уязвлен», то есть дьявола, «вкравшись в первозданного», то есть в человека, «произрастила всемножество страстей». А вот преподобный Иоанн Лествичник: «Гордость есть отвержение Бога, презрение человеков, матерь осуждения, отгнание помощи Божией, виновница падений. Где совершилось грехопадение, там прежде водворилась гордость; ибо гордость есть предвестница падений». Да…
– А как же написано, что «корень всех зол – сребролюбие»? – воскликнул кто-то.
Продолжение следует…
Первые две книги серии «Пикасо́…» можно заказать по адресу [email protected]