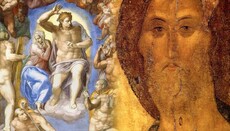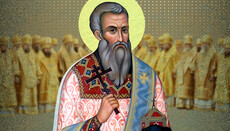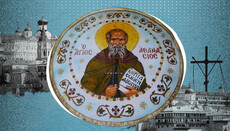Роль епископа Римского в общении Церквей в первом тысячелетии

На основании изучения актов и решений Вселенских Соборов мы можем с уверенностью определить место Римской Церкви и ее епископа в общении поместных Церквей в эпоху Вселенских Соборов.
Предлагаем вашему вниманию историческую статью греческого богослова пресвитера Анастасиоса Гоцопулоса. Ее оригинал на греческом языке размещен на сайте филиала СПЖ в Греции.
Очевидно, что Римской Церкви оказывалось особое почтение и исключительная честь. Соответственно, вся Церковь признавала за ней первенство чести и первое место в иерархическом порядке среди Патриарших Престолов. Причины тому ясны: во-первых, это была Церковь «славного Рима», столицы империи; во-вторых, она вела активную духовную жизнь и осуществляла пастырскую заботу о близлежащих поместных Церквях; в-третьих, это был единственный город латинского Запада, в котором проповедовали и приняли мученичество Первоверховные Апостолы, чьи гробницы там и находились.
Римская Церковь по праву гордилась своим апостольским происхождением от «предводителей апостольского хора» [свв. Петра и Павла], что со временем сузилось до [происхождения исключительно от св. Петра] и стало выражаться термином «петровское». Необходимо, однако, подчеркнуть, что ни в одном каноне Вселенских Соборов достоинство или почетный ранг Римской Церкви не связывались с ее апостольским происхождением, хотя сам факт такого происхождения не подвергался сомнению.
На Востоке апостольство понималось иначе и, как следствие, приобрело иное значение. Вместе с тем вся Церковь рассматривала апостольское преемство не как исключительную привилегию Рима, но как достояние и восточных престолов, которые также обладали особыми привилегиями.
Древняя Церковь – как на Востоке, так и на Западе – признавала первенство чести и достоинства, но не первенство власти (верховной юрисдикции) Рима над всей Церковью.
Отдельные попытки представителей Рима дополнить преимущество чести первенством власти, якобы «петровского» происхождения, не отражали позицию большинства римских епископов и, безусловно, не были устоявшейся и неизменной экклезиологической доктриной всей Латинской Церкви Запада во времена Вселенских Соборов.
При возникновении серьезных вопросов веры и церковного устройства каждый епископ, особенно епископ «славного Рима», имел не только неотъемлемое право, но и священную обязанность вмешиваться в дела другой поместной Церкви. Такая практика считалась вполне допустимой на протяжении первых восьми веков христианства. Действительно, в исключительных обстоятельствах единство Церкви сохранял не обязательно тот, кто обладал лидерством или первенством ранга, но тот, кто в конкретной ситуации выражал истинную веру – он считался носителем «первенства истины». Так было со св. Кириллом на III Вселенском Соборе и со св. Львом на IV. С другой стороны, когда епископ Рима проявлял себя недостойным своего служения, Церкви Востока и Запада могли разрывать и разрывали с ним общение.
Епископ Рима и Вселенские Соборы
Вселенские Соборы представляли собой кульминационные моменты в истории древней Церкви, являя ее единство в Истине. Также древняя Церковь с предельной ясностью установила, что высшим авторитетом в Церкви не может быть отдельная личность, но только Вселенский Собор – институт, чьи решения требовали всеобщего признания.
Правом созыва Вселенского Собора обладал исключительно император, который также определял повестку дня. Разумеется, ему следовало советоваться с первоиерархами Церквей, прежде всего с епископами Рима и Константинополя. Однако статус первопрестольного в христианском мире не давал епископу Рима права ни формировать повестку Собора, ни накладывать вето на его решения.
Ни на одном из Вселенских Соборов правящий папа не присутствовал лично, хотя в большинстве случаев его представляла делегация духовенства.
Более того, ни на одном из Соборов эта делегация не председательствовала. V Вселенский Собор имеет особое значение для понимания роли Римского папы в церковном общении, поскольку, помимо вопроса о трех главах, он [косвенно] высказался по этому вопросу, осудив папу Вигилия за необоснованный отказ встретиться на Соборе с другими патриархами.
Для древней Церкви как Востока, так и Запада папа подлежал соборному суду и авторитету не только в вопросах веры, но и в вопросах канонического устройства Церкви.
Основная роль епископа Рима на Вселенских Соборах как первенствующего среди патриархов заключалась в том, чтобы в своем догматическом послании, служившем своего рода центральным предложением для Собора, сформулировать православную веру и церковное предание относительно обсуждаемого богословского вопроса. На основе этого послания и велись соборные дискуссии. Следовательно, во времена Вселенских Соборов положение папы было внутри Соборов, а не над ними. Только при условии его участия в соборном процессе папа признавался «главой, отцом и первым» среди собравшихся епископов и патриархов; он не просто издавал постановление, которому остальные должны были подчиняться, но «совещался... совместно со всеми».
Епископ Рима в решениях Вселенских Соборов
Посредством Вселенских Соборов Церковь стремилась противостоять искажению православной веры и нарушению церковного единства, вызванным ересями. Очевидно, что для сохранения единства и предотвращения расколов требовалось участие, согласие и присутствие епископа Рима и, следовательно, Церкви «вплоть до пределов океана» в соборных решениях. Когда это удавалось, отцы Собора выражали свою радость и воодушевление с особой силой.
Вселенский Собор высказывался с абсолютным авторитетом, не завися от воли или решений отдельных лиц. Эта практика получила всеобщее признание в древней Церкви как Востока, так и Запада. Таким образом, решения принимались и в отсутствие епископа Рима, и даже вопреки его прямому противодействию. Более того, даже когда его предложения принимались, они сначала рассматривались Собором, соотносились с церковным преданием, и только после достижения соборного согласия утверждались.
Позиция древней Церкви была официально и категорически зафиксирована в «соборном определении», «Оросе» V Вселенского Собора: «Во время общих обсуждений свет истины рассеивает тьму лжи, как только каждое предложение, вынесенное на обсуждение, подвергается рассмотрению. Ибо в вопросах веры никто не вправе выступать от имени всей Церкви, поскольку каждый из нас нуждается в своем ближнем». Не будет преувеличением сказать, что V Вселенский Собор, водимый Святым Духом, предвидел развитие событий на Западе и ясно, со всей догматической определенностью, осудил будущий догмат о папской непогрешимости I Ватиканского собора.
Согласно Собору, папа не может быть непогрешимым ни ex sese (сам по себе), ни ex consensus Ecclesia (по согласию Церкви).
Первенство епископа Рима и, в равной мере, равенство пяти патриархов исторически засвидетельствованы «порядком подписей» на соборных определениях. Все патриархи, включая епископа Рима, подписывали документы единообразно, в соответствии с порядком чести Патриарших Престолов. Несомненно, епископ Рима подписывал документы первым как первенствующий в Ойкумене [в империи или цивилизованном мире]. Папа никогда не претендовал на особый характер подписи.
Епископ Рима и священные каноны
Святые каноны как решения Вселенских Соборов отражают и формулируют этос и практику Кафолической Церкви. Следовательно, пренебрежение их вселенским авторитетом и законностью недопустимо.
Основные каноны, касающиеся старшинства чести предстоятелей патриарших Церквей, – это 6-й и 7-й каноны I Никейского Собора, 3-й канон I Константинопольского Собора, 28-й канон Халкидонского Собора и 36-й канон III Константинопольского (Трулльского) Собора. Определяющим каноном относительно положения епископа Рима в древней Церкви является 28-й канон Халкидона, который разъясняет 3-й канон I Константинопольского Собора и служит основой для 36-го канона III Константинопольского Собора. Значимость 28-го канона Халкидона обеспечивается как его содержанием, так и способом его принятия.
В отношении содержания он канонически закрепляет старшинство ранга Рима, предоставляя Константинополю «равные привилегии», но при этом опровергает ключевой пункт, на котором, согласно Риму, зиждется превосходство папского престола над другими патриаршими кафедрами, а именно: петровское апостольство и Божественно установленное петровское верховенство над всей Церковью.
Что касается способа принятия: категорическое несогласие и острая реакция Льва Великого в Риме не только не отменили этот канон, но даже не умалили его канонический вес, силу или вселенский характер. Это вполне естественно в церковном порядке, поскольку для древней Церкви было немыслимо, чтобы решение Собора, особенно Вселенского, могло быть аннулировано поместной Церковью или отдельным лицом. Даже за папой римским не признавалось право одобрять или отвергать соборные постановления. Напротив, он, как и все, был обязан им подчиняться.
Римское понимание, которого твердо придерживался папа Лев Великий, относительно «петровского» и апостольского характера Церквей Рима, Александрии и Антиохии и якобы дарованного этим престолам исключительного достоинства, никогда не имело канонического обоснования и не влияло на жизнь древней Церкви. Даже в Риме эти идеи никогда не были воплощены на практике и быстро утратили значение.
Епископ Рима на Востоке и Западе: «Принцип единства в многообразии»?
В официальном богословском диалоге между Православной Церковью и Римом было выдвинуто предположение, что «принцип единства в многообразии» может стать средством преодоления тупика, созданного папскими догматами. Это предложение, по мнению его сторонников, опирается на решения Константинопольского Собора 879-880 гг., но в своей нынешней формулировке по сути лишь воплощает программу декрета «Об экуменизме» II Ватиканского собора и стремится к единству Церквей, несмотря на догматические различия.
Иными словами, предполагается, что западные христиане сохранят свой догмат о св. Петре и догматы о папском первенстве и непогрешимости в формулировках I и II Ватиканских соборов, не требуя их распространения на Восточную Церковь, так что православные не будут обязаны их принимать, если не станут характеризовать их как еретическое отступление от древней веры и практики Церкви. Именно так это предложение сформулировал кардинал Йозеф Ратцингер, впоследствии папа Бенедикт XVI. Согласно этому взгляду, древняя Церковь управлялась следующим образом: Запад принимал папское первенство власти, не навязывая его Востоку, а Восток терпимо относился к этой особенности западной практики, не осуждая ее как экклезиологическое отклонение; Восток и Запад придерживались разных мнений, но, несмотря на это, пребывали в полном церковном общении. Иначе говоря, «законное многообразие никоим образом не противоречит единству Церкви, но скорее придает ей большее великолепие и существенно способствует исполнению ее миссии».
Прежде чем представить нашу необходимую и краткую критику данного предложения, следует понять его истинные последствия. Особенно показательно в этом отношении обращение папы Иоанна Павла II к восточнокатолическим патриархам (униатам) 29.09.1998.
Среди прочего, он сказал униатским патриархам: «Я прошу вас помочь папе во имя ответственности за восстановление полного общения с Православными Церквами (см. Orientalium Ecclesiarum, п. 24), которая принадлежит вам как патриархам Церквей, разделяющих столь многое в богословском, литургическом, духовном и каноническом наследии с Православием. В том же духе и по той же причине я хотел бы, чтобы ваши Церкви всецело участвовали в экуменических диалогах любви и вероучения как на местном, так и на вселенском уровнях».
И папа продолжает: «Особая роль Восточных Католических Церквей [здесь он имеет в виду униатов] соответствует той роли, которая остается незаполненной из-за отсутствия полного общения с Православными Церквами. Как Декрет II Ватиканского собора Orientalium Ecclesiarum, так и Апостольская Конституция Sacri canones (стр. IX-X), сопровождавшая публикацию Кодекса Канонов Восточных Церквей, указали, как нынешняя ситуация и регулирующие ее правила направлены к полному общению, которого мы желаем между Католической и Православными Церквями. Ваше сотрудничество с папой и друг с другом продемонстрирует Православным Церквям, что традиция "синергии" между Римом и Патриархатами сохраняется – хотя и ограниченно, и с ущербом – и, возможно, даже укрепляется для блага единой Церкви Божией, присутствующей во всем мире».
Вышеприведенные тексты ясно показывают, как Рим желает и стремится – вопреки своим заверениям об обратном – к полному общению с Православием на основе усовершенствованной версии унии, которая могла бы включить и православных.
Для достижения этой цели основополагающее значение имеет принцип «многообразия в единстве», несмотря на то, что исторически он не доказан и богословски неприемлем в предлагаемой формулировке.
Изучение актов и решений Вселенских Соборов разоблачает как исторически несостоятельное утверждение, будто в древней Церкви первого тысячелетия Восток и Запад придерживались различных воззрений на положение епископа Рима. Напротив, мы ясно видим, что, несмотря на признание происхождения Римской Церкви от св. Петра, даже Западная Латинская Церковь никогда не принимала никакой формы папского верховенства юрисдикции (примата власти) над всей Церковью и не признавала за папой исключительного права формулировать вероучение, не говоря уже о какой-либо форме непогрешимости.
Напомним читателю вкратце о следующих фактах:
- Папские легаты соглашались на соборное рассмотрение папских догматических посланий Льва Великого, св. Агафона и св. Адриана, чтобы убедиться в их соответствии церковному преданию.
- Взгляды св. Льва Великого против 28-го канона Халкидона не были приняты даже его [непосредственными] преемниками и были оставлены на Западе вплоть до времени схизмы.
- Латинские епископы Запада отказывались принимать решения папы Вигилия по вопросам веры, что привело к его неоднократному осуждению западными соборами (как до, так и после V Вселенского Собора).
- Выраженное самопонимание того же папы Вигилия, который ни разу не заявил о наличии у него какой-либо предполагаемой высшей власти по божественному праву или «петровского» авторитета, подразумевающего подчинение ему Церкви и прочих патриархов. Более того, папа Вигилий никогда не обвинял Собор в противоканоничности или недействительности из-за своего несогласия или отсутствия. Напротив, он прямо обещал следовать решению Собора в вопросах веры и признавал справедливым его осуждение в свой адрес.
- Созыв Собора из 125 епископов со всех регионов юрисдикции Римского Патриархата под председательством папы св. Агафона с целью опровержения и осуждения ереси монофелитства наглядно демонстрирует твердый экклезиологический этос древней Римской Церкви. Показательно, как Римский Собор упоминает, что они собрались с великим трудом «из пределов океана» для соборного совещания, чтобы «наше скромное предложение исходило от собора широкого влияния, дабы, если лишь часть была осведомлена о происходящем, это не ускользнуло бы от внимания другой части».
- Сотрудничество Рима в осуждении папы Гонория на VI Вселенском Соборе.
Запад признавал решающую роль императора в соборных процедурах и никогда не настаивал на председательстве через папских «апокрисиариев» на Вселенских Соборах или на поместных Соборах на Западе [прим.: греческий термин для высокопоставленного церковного представителя или посланника]. - Ряд канонов поместных Соборов и творения святых отцов, одобренные 2-м каноном III Константинопольского Собора и 1-м каноном II Никейского Собора, свидетельствуют, что древняя Латинская Церковь Запада, подобно Востоку, признавала за Римской Церковью и ее епископом высокое почтение и первенство чести, но не первенство юрисдикции или непогрешимость в определении вопросов веры. Ярким примером служат деяния Соборов Карфагена в латиноязычной Северной Африке, их решения о запрете окончательных апелляций в Рим, а также спор между папой св. Стефаном и св. Киприаном о крещении еретиков.
Наконец, заключение письма Карфагенского Собора предупреждает об опасности, которую латинские отцы Северной Африки предвидели в первых попытках Рима расширить свою юрисдикцию в судебных делах над епископами Африки: «Что же касается исполнителей, хотя некоторые и просили их для наших клириков, не посылайте нам никого и не давайте их, чтобы не казалось, будто мы вносим облако дыма мира сего в Церковь Христову, которая предлагает свет простоты и день смирения желающим видеть Бога».
Все вышеизложенное доказывает, что в Западной Церкви эпохи Вселенских Соборов не признавалось никакого «петровского первенства» или «петровской функции единства», ни верховной власти над всей Церковью, ни способности безошибочно высказываться по вопросам веры.
Отдельные заявления папских представителей или некоторых папских посланий, прямо требовавших какого-то первенства власти, никогда не отражали понимания всей Западной Церкви и не представляли собой западное богословие в пределах Римского патриархата времен Вселенских Соборов. Следовательно, мы видим, что в течение первых восьми веков церковной истории Восток и Запад имели идентичные взгляды на основные экклезиологические принципы, определявшие роль патриарших Церквей, включая епископа Рима.
Тем не менее, даже если бы мы допустили существование значительных расхождений во взглядах между Востоком и Западом в первые восемь веков относительно сущности и роли первенства чести римского епископа – факт, который, как мы показали, невозможно подтвердить на основании актов и решений Вселенских Соборов, – мы должны подчеркнуть, что сегодняшняя реальность совершенно иная. После I и II Ватиканских соборов у нас есть – согласно Риму – фундаментальные догматы веры, относящиеся к «сущностной и неизменной структуре Церкви», и отрицающие их подвергаются анафеме «вселенского» I Ватиканского собора, что подтверждено и «вселенским» II Ватиканским собором.
Следовательно, попытки некоторых богословов представить папские догматы I Ватиканского собора как имеющие те же смысловые значения, что и отдельные заявления папских легатов или послания в ранней Церкви, явно вводят в заблуждение.
Более того, применение «принципа многообразия в единстве» не к маловажным церковным обычаям, а к основополагающим экклезиологическим догматам, затрагивающим саму структуру и существо Церкви, экклезиологически неприемлемо. Если, согласно папской экклезиологии I Ватиканского собора, отрицание папских догматов свидетельствует о серьезном экклезиологическом дефекте, то у нас нет Церкви Христовой, ибо Церковь с экклезиологическими дефектами совершенно немыслима! Кроме того, непостижимо, как западная часть этой «воссоединенной Церкви» может считать экклезиологически фундаментальными догматы о св. Петре, папском первенстве и непогрешимости (в формулировках I и II Ватиканских соборов), в то время как восточная часть отвергает их. Никогда в истории Христовой Церкви догматы не считались обязательными для верующих одного региона (или обряда), при том что другому региону позволялось их отрицать. Непостижимо, как мы можем принадлежать к одной «объединенной Церкви», где западные христиане должны принимать как догмат веры, необходимый для спасения, что папа непогрешим при произнесении ex cathedra, в то время как прочим верующим разрешается категорически отрицать это.
Очевидно, Православная Церковь не может принять «принцип многообразия в единстве» в том виде, в каком он был сформулирован в последние годы, равно как и вытекающее из него предложение, выдвинутое тогдашним кардиналом Ратцингером, позднее папой Бенедиктом XVI.
Если «принцип многообразия в единстве» в его современной формулировке не может быть использован для достижения столь желанного союза между Востоком и Западом, то каким могло бы быть подходящее предложение для преодоления разделения между христианами? Я полагаю, что единственная надежда на восстановление церковного единства заключается исключительно в искреннем покаянии – искреннем покаянии, которое предполагает и одновременно осуществляется лишь через смиренное возвращение к основополагающим богословским принципам и предпосылкам, которыми жила Церковь во времена Вселенских Соборов.
Смирение привлечет божественную благодать, и тогда единство будет достигнуто не непроверенным дипломатическим компромиссом, полагающимся на неопределенность догматических формулировок, что лишь умножит горечь и проблемы, но через действие божественной благодати, ведущей к подлинному «единству веры и общению Святого Духа».