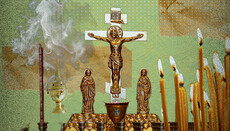Женский путь сердца, непостижимый мужскому рассудку

Женское сердце любит вопреки всему. Оно не следует логике, оно живет чувством. Жены продолжали любить Христа и мертвого, как живого.
День Жен-Мироносиц стал символическим днем женского служения в Церкви. Бог стал человеком и воплотился в мужской ипостаси. Он – новый Адам, и из Его прободенного ребра была создана новая Ева – Церковь Божия. Но кто стоит сразу же после Него выше всех горних чинов, выше всех ангельских сил? Матерь Божия, «Честнейшая Херувим и славнейшая без сравнения Серафим». В Евангелии об этом не написано, но я нисколько не сомневаюсь в том, что первая, Кому явился Христос, была Матерь Божия. Именно поэтому Ее нет среди жен-мироносиц, когда они идут ко гробу. Богородица знает, что Ее Сына там уже нет. Именно поэтому Девы Марии нет среди общего собрания апостолов, когда им впервые явился Воскресший Спаситель.
Воплощение и Воскресение Христа изменило духовную аксиологию. Ум и логика после грехопадения заменили ведение Бога. И с тех пор люди жили пониманием, которое они выводили из откровения Бога о Себе. Толкование этого откровения – функция ума, которая является доминантой мужского начала. Женщина в это время молчит, слушает и следует тем выводам, которые сделал мужской ум. На этих выводах построены законы и обычаи.
Но вот Бог приходит в мир. Он призывает Своих учеников, которые станут потом апостолами, следовать за Ним. Но за Христом также идут и жены, которых никто не призывал. Они пошли сами по зову своего сердца. Апостолы задают вопросы, спорят, не понимают слов Спасителя, а жены просто слушают и радуются присутствию Христа. Возле Него им хорошо – не потому, что Господь правильно и хорошо говорит, а потому, что Он есть. Возле Него тепло, благодатно, они ощущают Его Свет. Женам не нужны слова, Им нужен Сам Иисус. Они рады быть в тени, лишь бы рядом с Ним.
Когда разразилась катастрофа и, как гром среди ясного неба, прозвучал смертный приговор, женщины остались рядом с Учителем. Мужской ум разочаровался, он решил, что ошибся, проиграл, поверил тому, чему верить не надо было. Теперь уже ничего не изменишь. Иисуса не спасти, но себя спасти еще можно. Логика и здравый смысл говорили о том, что самым правильным решением теперь будет удалиться как можно дальше и думать о собственной безопасности.
Но это ум, а вот сердце – оно другое.
Женское сердце любит вопреки всему. Оно не следует логике, оно живет чувством. Жены продолжали любить Христа и мертвого, как живого.
Для них Он остался все тем же – любимым Учителем. И пускай Его распяли и Он умер, но это ничего не меняет. Жены и умершему хранят верность так же, как и живому. Поэтому они и идут к гробу, не думая о том, что там стоит вооруженная стража. Их не беспокоит собственная жизнь. Они переживают лишь о том, «кто нам отвалит камень от гроба». Поэтому Воскресший Христос является женам-мироносицам раньше, чем апостолам. Сердце всегда ближе к Богу, чем рассудок.
Еще в земной жизни Спасителя мы видим, что мистические беседы Он вел не только с апостолами, но и с женщиной-самарянкой, рассказывая ей о Живой воде. Мария, сидящая у ног Спасителя, стала иконой созерцания. С тех пор и до конца мира Бог ведет человека к Себе путем сердца, а не путем ума. Это путь молитвы, любви и благоговения. Спасение – это не вдумывание в Бога, это вчувствование в Него. Ум, покинувший свои пределы после грехопадения, должен вернуться в сердце, а не наоборот. То, что является доминантой мужского начала, должно смириться и погрузиться в то, что есть прерогативой начала женского.
Самая большая катастрофа нашего книжного богословия в том и заключается, что оно отвергло путь сердца и вернулось к рациональному началу. Живой путь сердечной молитвы и деятельной жизни предполагает умаление мышления, вплоть до полной его остановки. Это отсечение любых помыслов, как добрых, так и злых. Тишина ума есть необходимое условие созерцания. На этом пути ум умолкает, а оживает сердце. Именно в духовном сердце находится дверь, ведущая в Царство Божие, которое «внутрь нас есть». На этом пути родилось монашество, на нем построена духовная практика опытных подвижников. Этой дорогой прошли все преподобные. Исихия ума открывает врата Неба.
Но так получилось, что этот древний путь нами забыт. А с веками дьяволу удалось построить железобетонную стену между умом и сердцем, так что богословие стало основываться исключительно на рацио, на верном понимании, знании, схоластике, логике и умозрении. Верить – означает знать. Но знания никогда не смогут заполнить пустоту сердца, они никогда не разгонят мрак уныния и тоску во время искушений. Ум, подобно апостолам в Гефсиманскую ночь, будет бояться, убегать и прятаться от креста, даруемого нам Христом для спасения.
Никогда за всю историю существования Церкви Христовой у людей не было доступа к такому количеству православной литературы, которое есть сейчас. Сотни тысяч книг лежат в свободном доступе в интернете. Есть огромное количество замечательных и интересных лекций. Проповеди современных священников куда более интересны, насыщены, оригинальны, чем те, которые люди слышали с церковных амвонов сто и более лет тому назад. Если мы сравним то, что говорил в четвертом веке святитель Иоанн Златоуст или Григорий Богослов, и то, что говорят современные православные проповедники, то я не сомневаюсь, что последних нам будет слушать значительно интереснее, чем первых. И что? Стали ли мы при всем этом добрее, мудрее, увеличилось ли количество верных в храмах? Или все происходит с точностью до наоборот?
В 1950 году сторонников ислама во всем мире было почти 21 миллион человек, православных – 106 миллионов, католиков – 400 миллионов. Прошло чуть больше чем полвека. Теперь мусульман почти два миллиарда. Католиков столько же, сколько и представителей хинди. Православных – только 200 миллионов. Это в тысячу раз меньше, чем мусульман. Ислам теперь самая большая религиозная конфессия в мире, и количество ее сторонников растет непрерывно. Разве у них так много ярких проповедников? Или, может, мы видим изобилие исламской богословской литературы? Нет, у них есть только практика, основанная на естественной человеческой морали. А что у христиан? А у христиан за эти годы появилось либеральное богословие с его беспринципной вседозволенностью. Появилась культура постмодернизма, отвергающая не только традиционные христианские ценности, но и общечеловеческую мораль. Христианские страны, которые когда-то были консервативными и придерживались евангельской традиции, переродились в общество потребителей и сторонников гедонизма.
Путь ума ведет к той же идеологии, в которой жил древний дохристианский мир – «ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь».
Это же так понятно и очевидно. А что потом? Что потом, ум не знает и знать не может. Это может почувствовать только чистое сердце и та внутренняя интуиция, которая делает человека христианином.
Именно поэтому сейчас в наших храмах намного больше женщин, чем мужчин. Потому что «зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь» (Антуан де Сент-Экзюпери). К Богу приходят не умные и образованные, а добрые, любящие и простые. Конечно, среди них могут быть всякие люди, в том числе и с высоким интеллектом, знаниями. Но не это их привело к Богу, а то, что находится в самой глубине личности. То, что вело жен-мироносиц в темноте предрассветной ночи к гробнице Христа. То, что и сейчас звучит в нашем сердце, как Пасхальная песнь, как радость предчувствия вечной жизни.